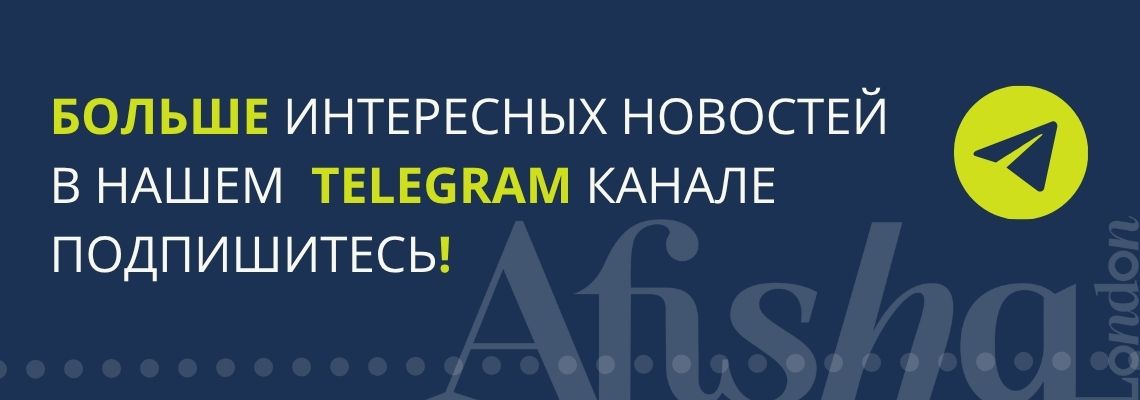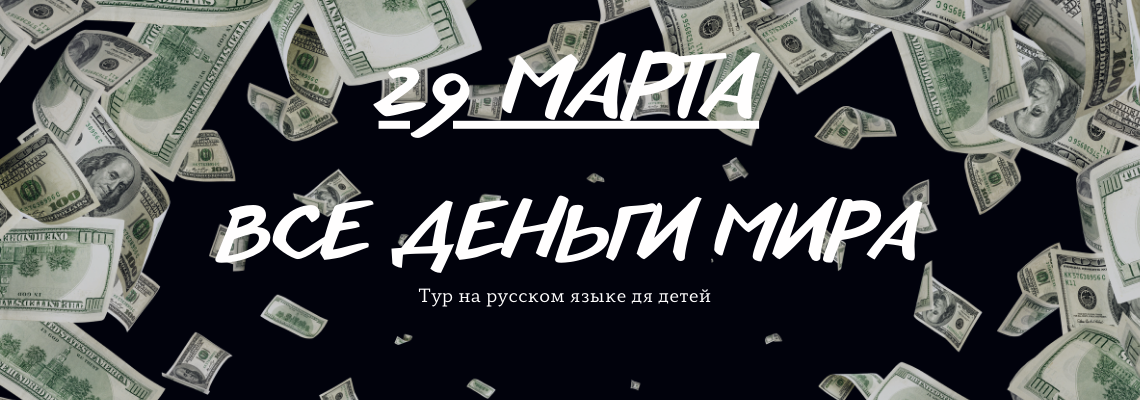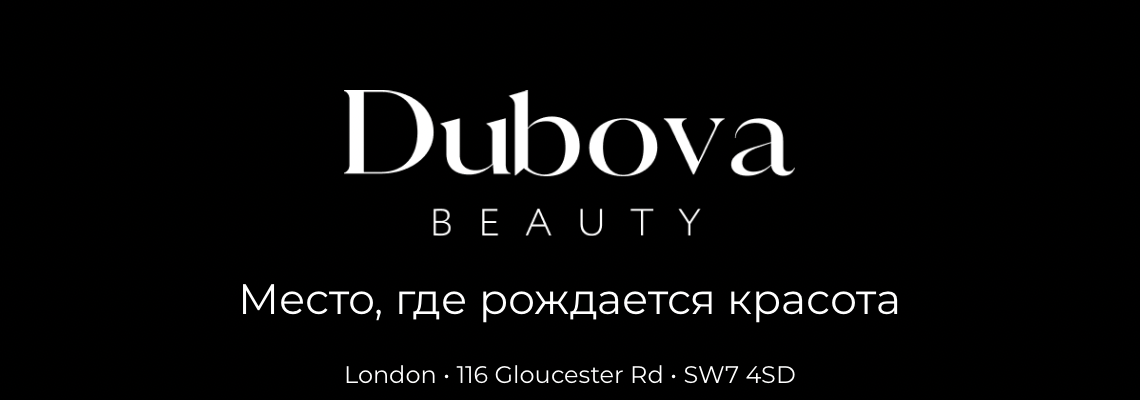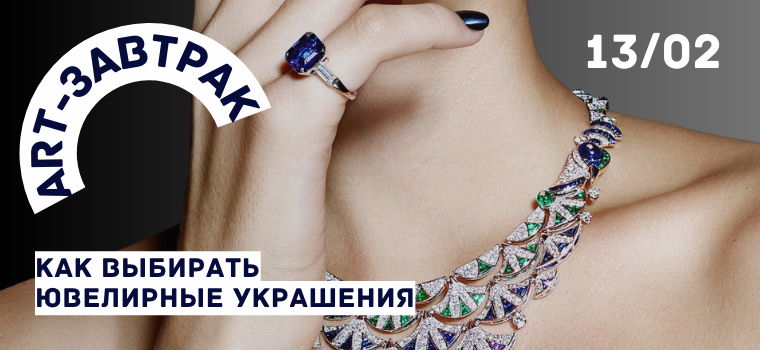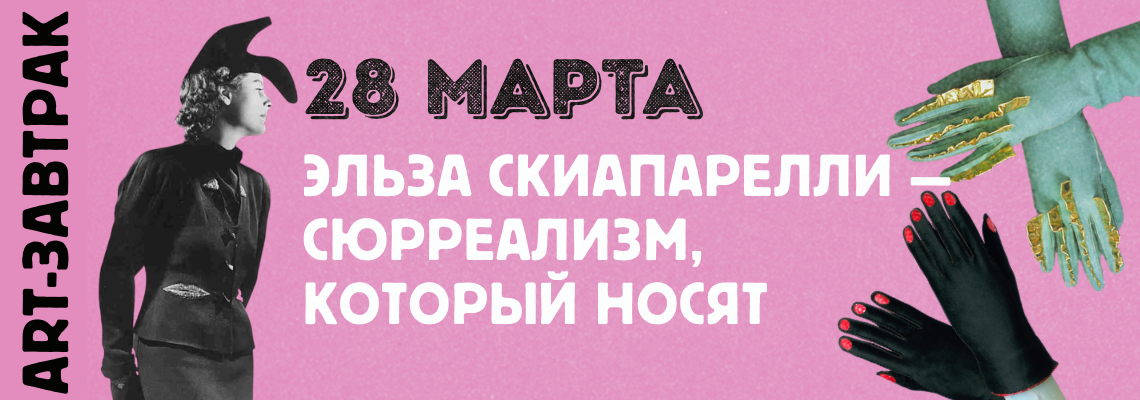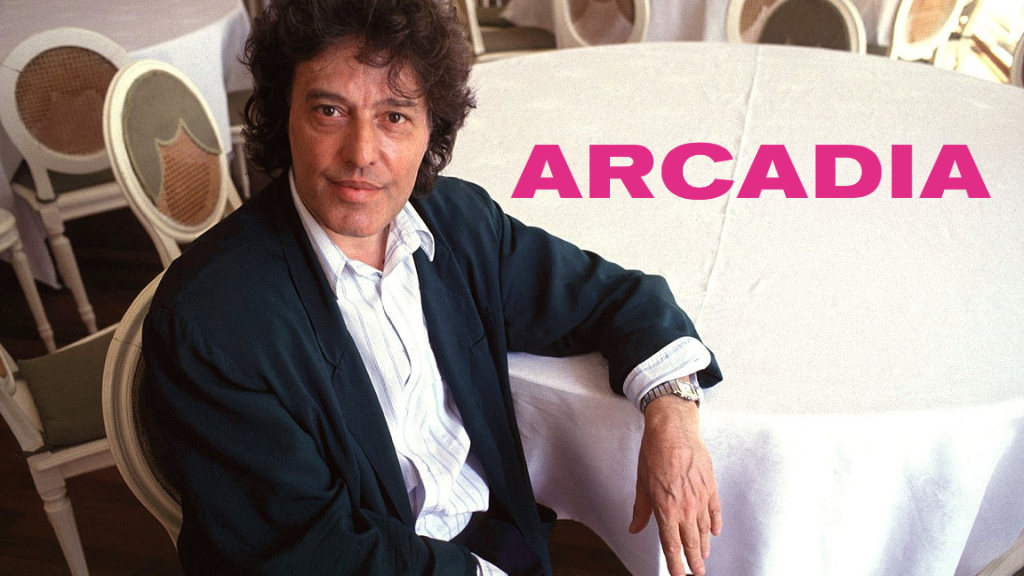Образцовая колода карт: британское прочтение «Трёх сестёр» в шекспировском «Глобусе»
До 19 апреля в лондонском Sam Wanamaker Playhouse идёт спектакль «Три сестры», и это мировая премьера нового перевода знаменитой пьесы Антона Павловича Чехова драматургом Рори Малларки. Русскую классику в Великобритании ставят с завидной регулярностью и любят переосмыслять привычные сюжеты — в Barbican Theatre с большим успехом до 5 апреля идёт «Чайка» с Кейт Бланшетт в главной роли. Что британские драматурги оставили от знакомого произведения, и причём тут свечи? Театральный обозреватель Afisha.London Наталья Рубцова побывала на спектакле и делится впечатлениями.
Ниже будут впечатления от спектакля, но начать хочется не с них. Моя дочь коллекционирует колоды карт, и кому, как не мне, знать, что при всей кажущейся одинаковости (36 плюс 2 джокера), они всегда разные: с путешествиями Алисы в Зазеркалье; с рецептами коктейлей с Барбадоса; с членами семьи, стилизованными под аниме — список длинный. К чему я? К тому, что иногда простая колода карт, которая знакома с детства — со знаменитыми портретами семьи Романовых с бала a la russe, кажется самой милой и желанной, любимой и давно не игранной.
Именно таким, давно не игранным, стал для меня спектакль «Три сестры» в шекспировском «Глобусе», поставленный режиссёром “Caroline Steinbeis” — как те костюмы Романовых, до боли знакомым. Действие происходит по Чехову, в задуманном им времени и месте: Россия, глубинка, господский дом, рубеж XIX и XX столетий. Кто-то скажет — надоел этот нафталиновый театр, хочется новых форм и прочтений, интересных режиссёрских решений. Но это тот самый Чехов, по которому можно сверять время: с невероятно красивыми женственными платьями сестёр, мундирами Вершинина и Солёного, костюмом-тройкой у оставившего службу Тузенбаха, незабываемое платье Наташи (то самое, розовое с зелёным поясом, которое делает её предметом насмешек сестёр в первом акте…).
Красивая обувь — мужские до блеска начищенные военные сапоги и элегантные ботинки доктора, очаровательные каблучки барышень. Вы скажете — главное ведь не в костюмах, но я отвечу — в них тоже, потому что это была услада для моих глаз. Такой кайф я знаю только от спектаклей в театре Вахтангова, где костюмы делает Максим Обрезков и, пожалуй, от тех постановок Чехова от Андрона Кончаловского, где за костюмы и сценографию отвечал Рустам Хамдамов. Тут, судя по программке, этим занимались семь человек, и результат оправдал ожидания.
В этой чеховской колоде не оказалось изменённых слов, и перевод текста от Рори Малларки очень бережный, даже лермонтовская вставка «А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой» звучит в переводе невероятно уместно. Сколько юмора и иронии спустя 120 лет мы всё ещё слышим в репликах героев, Чехов и сейчас заставляет нас смеяться порой над грустным.
Что поразило буквально с самого входа в зал? Свечи. Весь спектакль играют при настоящих свечах! В бережно восстановленном по рецептуре XVI века (а, значит, — деревянном) театре Шекспира. Второй и третий акт, с тем самым знаменитым пожаром, вообще проходят в полумраке. Это заставляет зрителя напрягаться и всматриваться, но как это передаёт атмосферу времени! Впервые я вижу в программке такую единицу, как Candlelight designer. Это Анна Уотсон, и её труды не прошли даром. Она воссоздала Время. Все герои как застывшие мухи в янтаре. Они окружены свечами, подсвечники горят на колоннах по периметру зрительного зала: в девятирожковых люстрах, спускающихся с потолка, в старинных канделябрах, которые держат в руках, освещая свои лица, сёстры Прозоровы и их гости.
Тёплый мерцающий свет — это волшебство времени, в котором герои мучительно пытаются обрести себя. Наташа, прибирающая дом к рукам, разрушающая всё красивое и трепетное, что живёт в том времени; Маша, страдающая от любви к Вершинину и потерянной в несчастливом супружестве жизни; Ольга, спасающая старую няню и не надеющаяся уже обрести семейное счастье; окрылённая надеждами уехать и работать Ирина, чьи крылья так больно ломаются в последних сценах из-за гибели Тузенбаха на дуэли. Три сестры, их объятия и слёзы в финале, слёзы многих зрителей и мои — равнодушных не осталось (зал «Глобуса» крошечный, я видела это как на ладони).

Спектакль играют при настоящих свечах. Фото: Johan Persson
Живая музыка стала настоящим украшением спектакля. Играли на балалайке, скрипке, фортепиано, домре, виолончели — ведь в таких семьях, как у Прозоровых, музыка точно звучала в доме постоянно! Был и вальс Чайковского, и колыбельная «Баю-баюшки-баю» — единственное вкрапление в ткань спектакля на русском языке. Этот фрагмент разложили на многоголосие, и колыбельная в какой-то момент стала казаться молитвой.
Я полюбила этот спектакль. В нём нет громких имён звёзд, но есть тонкая работа режиссёра, который сплёл для зрителя крепкую паутину. Здесь были и смех, и слёзы — всё по древнегреческому старинному рецепту, через катарсис. Это тот самый Чехов, которого хочется показывать детям, и, если вдруг ваши дети изучают русскую литературу, его, безусловно, стоит увидеть первым. Дальше уже можно смотреть любого Чехова, но представлять его нужно именно таким, подлинным. Этот спектакль как нота «ля» первой октавы, на которую настраивается весь оркестр. Та самая образцовая колода карт, после которой можно уже коллекционировать все остальные.
Успейте оценить спектакль — бронируйте билеты на «Трёх сестёр» по ссылке.
Фото на обложке: Johan Persson
Читайте также:
Химический коктейль: почему Великобритания объявила войну детским слашам
Подписаться на рассылку
Наш дайджест будет приходить вам раз в неделю. Самое полезное и актуальное! Всегда можно изменить настройки получения.